-3 °С
Облачно
Все новости
Cоциум
28 Марта 2013, 15:23
Убойный гуманизм
Потерять совесть можно. Вернуть нельзя
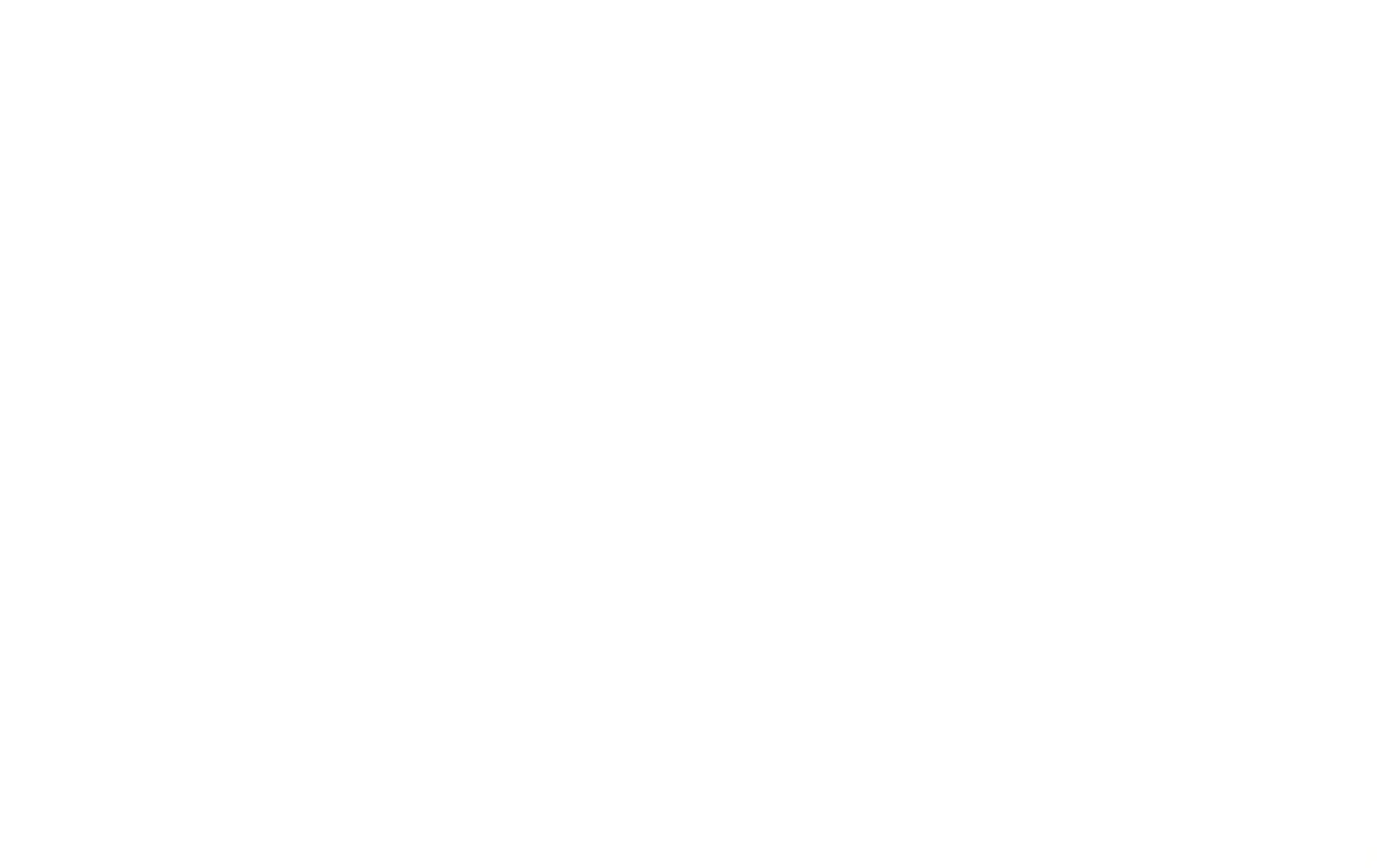
С годами «Бураном» все сложнее управлять...
Мы ехали в село Максютово, что в Кугарчинском районе, чтобы написать о человеке, который спас косулю. Проходящей машиной ей перебило ногу. Хуккулай Киясов приютил ее и полтора месяца выхаживал. Факт не феноменальный. Но сам герой оказался человеком интересным. И как охотник, а по лесам и полям побродил он немало — более полувека. И как незаурядная личность.
Наверное, он мог бы о себе сказать, что шел по жизни рука об руку с удачей. Не каждый рискнет так о себе сказать. Из-за недостатка элементарного мужества. По причине нереализованных планов. Просто потому, что кто-то по соседству «живет лучше». Из-за заниженной самооценки в конце концов. Хуккулай Гафарович к баловням судьбы себя не относит, но на превратности судьбы жаловаться не привык.
Волчье благородство
Волков он увидел издалека. На иссиня-белом пологе снега их шкура рябила, как березовая кора. «Пришпорив» снегоход, рванул им наперерез, пытаясь отсечь их от опушки редколесья. Адреналин клокотал по жилам: лесок невелик — хилое убежище для зверя, хищники были обречены.
К сосняку волки все же поспели быстрее. Один из них затерялся в чаще, а тот, что покрупнее, огромными прыжками прошил лесной мысок и вновь выскочил в открытое поле, словно насмехаясь над преследователем. Хуккулай ожесточенно гнал жертву по сугробам, редким перелескам, торжествуя, примечал, как наливаются тяжестью лапы матерого зверя, как с пасти ветер срывает хлопья пены, как тает пружинистость гибкого тела.
В запале он с ходу ухнул в овраг, но, не сбавляя газа, стрелой взмыл на противоположный гребень, отчаянно вертя головой, боясь упустить из виду преследуемого. Волк неподвижно застыл метрах в сорока, чуть поджав уши и хвост, смотрел на охотника. Не было в этом взгляде мольбы о пощаде или собачьего заискивания — он проиграл эту жизнь и, не в силах исправить судьбу, отрешенно ждал конца…
Потом, когда подломились лапы зверя, зрачки подернулись поволокой космической бесконечности и он покорно вытянулся на снегу, вдруг открылась охотнику пронзительная истина: волк вовсе не свою шкуру спасал: самку увел в лес, а человека — в противоположную сторону, чутьем своим звериным понимая, что смрадный, надсадно ревущий «Буран» рано или поздно его настигнет.
С тех пор зарекся Хуккулай охотиться на волков. По жестокости человек переплюнет любого зверя, а вот благородством не всякий способен вровень стать. Потому и совестно брать такого на мушку.
И к остальной дичи стал относиться с прохладцей. Вылазки с ружьем теперь все больше напоминают ритуальный обряд, дань традиции. Грех не посидеть на бережку, любуясь закатом, глядя, как глупый селезень, ошалевший от весеннего половодья чувств, прет напропалую к охотничьей засидке, пока не ужаснется, завидев вскинутый навстречу ствол «Зауера». Крякнет истошно, суетливо захлопает крыльями, закладывая крутой вираж. «Живи, дурачок», — усмехнется ему вослед Хуккулай, опуская ружье. Селезню, разумеется, попросту повезло: ягдташ уже хранил трофей с открытия охоты, зачем же брать сверх меры?
Он и прежде не бил ни зверя, ни птицу ради утехи, из спортивных амбиций. Поначалу за добычей погнала послевоенная полуголодная жизнь. Пятнадцатилетнему пацану мать приобрела в сельпо берданку за восемь рублей — деньги по тем временам немалые, — и чтобы окупить такую роскошь, облазил он всю округу с ружьем в руках.
По молодости приключались истории смешные. Как-то весной заприметил плывущего по излучине селезня. Не встречал он доселе такого разукрашенного франта: голова и шея лоснятся темно-зеленым отливом, хвост — в завитушках, как кудри деревенской модницы, всю ночь бигудями трамбовавшей подушку. А как надменно нес он над водой желто-зеленый клюв… Пожалуй, фараоны скипетр ценили меньше.
Подтащил он ивовым прутом подбитую птицу к берегу, поднял над водой, а вослед тесемка тянется, привязанная к лапе. На другой лапе — ободок красный из какой-то материи. Испугался вначале: уж не редкостную ли окольцованную птицу загубил? Недолго гадал Хуккулай над таинственным утиным «отростком». По берегу вприпрыжку несся приятель. Тот еще оказался охотник! Мать отлучилась, а он стащил из сарая селезня вместо утки да махнул на реку. Пока скрадок ладил, отцепился «подсадной селезень» и поплыл навстречу погибели.
— Теперь его не догнать, — глубокомысленно рассуждал Хуккулай. — Стрелять надо было.
...А эти аэросани снегоходу по скорости не уступят — легкие, маневренные.
— Конечно, стрелять! Гада такого… — горячился друг. — Он со второй попытки удрал. Первый раз я за ним в ледяную воду сиганул, поймал, конец веревки в зубах стиснул, думал, так надежнее…
— Ну, тогда не переживай — я его застрелил. Вон под кустом лежит.
Друзья, кстати, не все поверку охотой выдерживают. За праздничным столом иной рубашку на груди рвет: дескать, пусть только кто обидеть попробует, собой, как скалой, отгорожу! А в реальной обстановке прыть молодецкая, бывает, испаряется в мгновение ока.
Отправились они однажды поутру добирать подранка-медведя, которого не удалось тщательно выцелить на овсяном поле: в сумерках его силуэт расплывался, как чернила по промокашке. Ушел раненый зверь в лес, залег. Шли по следу втроем, и каждый отдавал себе отчет, насколько живуч, свиреп и безрассудно смел топтыгин, если учует обидчиков. В конце концов он их и учуял. Рассвирепел неимоверно, кинулся на врагов из-за валежника. К счастью, «Зауер» Хуккулая не подвел.
Едва улеглось эхо выстрела, горохом рассыпавшееся по стволам деревьев, как справа с высоченной лесины раздался крик: «Я его вижу!», а вслед за ним — выстрел. Второй подельник, оседлавший приличный сук на дереве слева, тоже увидел зверя и поторопился внести свой вклад в «общий» успех. «И когда только они успели на деревья взлететь? — недоуменно размышлял про себя Хуккулай. — А с виду вроде надежные мужики…»
Надежность, кстати, порой зависит не от многолетнего бок о бок существования, и уж тем более нельзя тут полагаться на производственную или партийную характеристику. Мастера бюрократических изысков могут так порадеть «человечку»: прочитаешь — прослезишься от умиления, а на деле такая бумажка ломаного гроша не стоит. Хуккулай наперекор всем официальным мнениям верит в изначально заложенное в человеке, даже самом забубенном, стремление к справедливости.
Архаровцы на мотоцикле
Когда Хуккулай Киясов работал прорабом в совхозе «Октябрьский» нередко удивлял бесшабашным поступком: ехал в ближайшую колонию Оренбургской области и вербовал на сельские стройки отбывших срок наказания. Его бригада из бывших зэков работала на зависть комсомольским стройотрядам: не коммунизм же строили — собственную судьбу, скакавшую дотоле по кривой дорожке да колдобинам, выправляли.
Признаться, поначалу в коляске служебного мотоцикла возил Хуккулай Гафарович кусок армированного металлического прута. Так, на всякий случай. Не ровен час, у кого-нибудь сдадут расшатанные тюремными нравами нервы… Обошлось. «Бугра» своего отчаянная братия уважала. За справедливость. За то, что ни разу не «кинул». За то, что глотку рвал перед теми, кто норовил уравнять в зарплате рвущих жилы с любителями бить баклуши. А еще за то, что был снисходителен к безрассудным поступкам иных «романтиков».
Два таких отчаянных дружка познакомились со студентками из стройотряда, ну и стали в гости напрашиваться. А те, смеха ради, возьми да и ляпни: согласны, дескать, но при условии, что мешок семечек привезете на свидание. Для каждой! С семечками-то какие проблемы? Совхозный подсолнечник в поле дозревал… А вот как злополучные мешки несколько десятков километров переть до Мраково — вопрос. Недолго думая, приятели заявились во двор к Киясовым. Хозяина дома не было, вышла жена.
— Фирдаус-апа, — скромно мнутся у калитки подельники. — Нас Хуккулай Гафарович отправил за мотоциклом, сам-то занят, вот и попросил оказать услугу.
Рожи при этом у обоих выражали крайнюю степень неохоты, словно прораб распорядился разгрузить вагон с цементом во внеурочное время.
Все у шкодников складывалось как нельзя лучше, пока на трассе не тормознул автоинспектор. Камера предварительного заключения в тот вечер заменила им кинозал с подружками. Мотоцикл отогнали на штрафплощадку, позвонили хозяину.
Приехал Хуккулай в районную милицию, поскрипел зубами, увидев свой мотоцикл без фары, крышки бензобака и слитого горючего. Шум поднимать не стал, вежливо попросил:
— Отдайте мне архаровцев.
— Забирай, — неожиданно легко согласились в милиции.
Архаровцы, словно побитые щенки, некоторое время молча плелись за Киясовым. Не обученные просить прощения, не зная, как это сделать, они растерялись. Может, впервые за всю свою жизнь. Наконец, одного осенило:
— Надо вернуться в милицию.
— Это еще зачем? — оторопел Хуккулай.
— Кое-что отдать надо.
Из-под рубашки он извлекает миниатюрную шахматную доску.
— Сержант в дежурной части ушами хлопал, раззява, ну не удержался я…
— Зачем тебе шахматы, ты что — ненормальный?! — вспылил Хуккулай.
— Да не нужны они мне. Ментов не люблю. Решил проучить.
— Проучить он решил, — ворчал Хуккулай, — может, по зоне скучаешь? Отдай шахматы, сам верну.
Такой метод воспитания, наверное, одобрен быть не может — антинаучный. Хотя вот жена 36 лет в школе отработала, отличник народного образования РСФСР, но методику мужа никогда не подвергала сомнению. Да он и не претендовал на лавры нового Макаренко. А мог бы, судя по результатам трудового перевоспитания. Многие из бывших зэков прижились в деревне. Семьей обзавелись. Кое-кто алкоголь и сигареты на дух не переносит.
Единица дефицита
Никаких америк Хуккулай Гафарович, разумеется, не открывал. Относился к людям по-человечески, не опускался до унижений, не демонстрировал превосходство… Это как раз то, что отвергает наша пенитенциарная ситема, игнорируют власти предержащие. Из века в век тянется этот шлейф отторжения, раскалывающий общество.
В разгар Гражданской войны шел по деревне отряд красной конницы. Схватили красноармейцы деда и расстреляли. За то, что мулла. Сыновьям приказали запрячь лошадь якобы для армейской поклажи. Старший уже женат был, а среднему едва 16 минуло. Угнали подводу, братьев оставили — в соседнем овраге. В расход пустили. За то, что дети муллы. Типа это религиозное отродье советской власти как кость в горле.
Уцелел младший брат. Его, малолетку, пощадили. Но не пощадила фашистская пуля. В 1943-м, обороняя Ленинград, сложил голову отец Хуккулая Гафаровича. За ту самую советскую власть…
Относиться по-скотски к людям — тяжело искореняемая традиция российских вельможных особ. Едва улеглась пыль от взрыва первой атомной бомбы на полигоне под Тоцком, нагнали отовсюду зеленых первогодок — расчищать завалы, навороченные супероружием. Обрядили в видавшее виды солдатское обмундирование, на ночь загоняя в продуваемые насквозь палатки. Возможно, их заведомо занесли в списки «естественных боевых потерь», кто знает? И главное, у кого хватит смелости сказать об этом вслух? Смелости не хватает даже на то, чтобы признать тех солдат ликвидаторами последствий испытаний атомной бомбы — не на бумаге, на деле. Узнал Хуккулай о льготах, обратился в военкомат, а там порекомендовали ехать в Подольск, обратиться в архив министерства обороны. «Меня там ждут не дождутся», — иронично замечает Хуккулай Гафарович.
Мы не стали его убеждать в обратном. Вряд ли «Оборонсервис» забронировал гостиницу, в которой можно жить припеваючи хоть год, пока какой-нибудь архивариус докопается до личного дела рядового Киясова. Да если бы и забронировал! Ну некогда Хуккулаю Гафаровичу мотаться по Подмосковью. Внуки понаедут — счастье до небес. А то вон спугнул как-то двух чирков — душа петухом запела, про рыбалку забыл. Едва до темноты успел с десяток синтевок (бакля — по-местному) надергать, а так бы кота без ужина оставил. А еще стоят под навесом не доведенные до ума аэросани. С годами «Бураном» все сложнее управлять. Аэросани — другое дело: снегоходу по скорости не уступят, легкие, маневренные.
Перед новым годом сосед зовет. Косуля, говорит, забрела, может, глянешь. Действительно, в бурьяне лежит самочка, с ногой что-то неладно. Сообщили егерю Сергею Кочневу. Тот пришел, спрашивает:
— Что делать будем?
— Не знаю, — развел руками Хуккулай Гафарович. — Ты же егерь, думай.
Часа через два после звонка председателю районного охот-общества из Мраково целый десант примчался: три полицейских, два ветврача. Изловили дикарку, осмотрели, решили, что машина сбила. Попросили Киясова на неделю пустить косулю на постой. Приблудшее животное жило в его огороде полтора месяца. Бока поправило, шерсть залоснилась с овса да пшеницы. Освоилась косуля настолько, что принялась яблони грызть. Пришлось охапками готовить веткорм. Внук увидел косулю, засветился весь:
— Мэм, — говорит, — ее зовут Мэм.
Так уверенно заявил, словно подружку из детсада встретил. Имя приклеилось. Но правильно ли мы его воспроизводим на бумаге? Может, писать надо через «е»? Мем — это единица передача информации. Правда, всего лишь посредством имитации. Человеку это не в тягость — лучиться притворным радушием. А братья наши меньшие от природы лишены лукавства. И рассчитывают на взаимность. Которая и без того в дефиците.